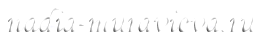Волшебное
…То, что было там, в детстве, эти волшебные игры. Они были вечерние, были похожи на обряд. То, что я делаю, когда пишу – я их воскрешаю, только на экране, на бумаге. Я играю, когда пишу. И это много голосов – в игре там было много разных существ, и все они говорили, высказывались. Я только там причастна тайне. Что я мне нужно вспомнить?
…Конями назывались блекло-оранжевые, потертые подушки от тахты. Они были начинены поролоном, и они были длинными, как санки. На них было очень удобно ездить по полу, из одного конца детской комнаты в другой. По паркету, отталкиваясь руками ты, замирая, несешься к балкону. Эта игра называлась «само-сани», и пришла позднее, когда мы устраивали понаморянный спортзал, куда ненароком заходила «девочка-Анечка».
А вот те кони, из волшебных игр … Они по полу не ездили – они были на тахте, и я скакала на них, вооружившись красным пластмассовым кинжалом с изогнутой рукоятью: их привез папа из Венгрии, как часть индейского боевого убора.
Тахта скрипела, рыцарь убегал от погони, взлетал в небо, за балконом стоял вечер. Эти игры странным образом были похожи на какой-то обряд: вечер и присутствие тайны, словно бы разноцветные светящиеся шары висят в воздухе, и стукаются в горсти деревянные и каменные бусы.
Словно Новый год, и зажглись светляки дымных огней на елке. Дымных – оттого что далеких, самим своим свечением глубоко в ветвях удаленных от комнаты и мира обычных вещей.
Все было с примесью дали, как загадочное название книги, которое не можешь вспомнить, но в этом есть что-то манящее. Пластинки «Вокруг света» с недоговоренными названиями, обрывающимися в несказанность и недосказанность голос флейты Пана. Глуховатый голос, зовущий издали.
Из глубин мерцающие елочные огоньки сквозь серебряный плоский дождь, в котором отражались лиловые, изумрудные и серо-лазоревые блики.
И голоса – голоса наши, живые, мой, Алешин и еще позже - Анин, сплетающиеся с этими дальними посланиями. И еще более того – голоса удвоенные, потому что каждый играл не за одного себя, но за много непонятных созданий, населяющих комнату вечером.
Я создавала и лепила эти игры, дирижируя хором голосов. Это было мое, полностью мое время – потому что на дуге вдохновения, летя с немыслимой скоростью к началу всех времен, я находила целостность настоящего. Оно не было ничем разбито, раздроблено, в нем не могло быть трещин и провалов. Я вдохновляла моих лицедеев, моих участников мистерий – потому что эти игры заверчивались вокруг меня, как водовороты, я была их создателем, их слушателем, их голосом.
Мне кажется, что брат, одуревши слегка от моего жара, вскоре терял соображение и падал в эту печь, начиная создавать вместе – вступая новым голосом, закруживаясь в этом полумраке, в воздухе голосопрядения. В этом была самая беспримесная радость творения – от первого до последнего звука, прыжка, взмаха, крика.
Мы говорили вместе как пифии, будто немного из транса: скача, потрясая кинжалами, плывя в воздухе, как под водой, взлетая и падая под землю вытертого паркета, в недра гор, в пучину морскую, в волшебный дворец… И я произносила загадочное слово «вдруг»: «И тут вдруг»…
Это слово было моей волшебной палочкой – один взмах, и рождается нечто небывалое, доселе совершенно бесплотное, непредставимое. Вот так да! Оно, оказывается, есть! Откуда, казалось бы?
Голос, мой голос, рассказывающий сюжет странствия, полета, радостно поддерживающий вторящий голос брата…
Я не могла примириться с обыденностью братних реплик, еще в родительских записях наших младенческих подслушанных игр возникает такое:
Брат: - На зеленом лужку спал злой фашист…
Я: - Вставай, фашист, и лети, куда я тебе прикажу – в теплые страны!
Или такое (мы играли в разноцветных индейцев и ковбоев, привезенных из Америки папиным приятелем):
Брат (наслушавшись воспитательницы в детском саду, время-то самое то, семидесятые годы): - Светлана Ивановна сказала, что Владимир Ильич Ленин – наш вождь…
Я (возмущена до глубины души): - Алеша, ты что! Она ошиблась! Наш вождь –старый Ваппи!
Алеша (сразу же покоряясь): - Ну, тогда Владимир Ильич Ленин – наш ковбой…
Мы всегда закрывали дверь в комнату – толстую белую дверь с облупившейся краской. Шторы на окнах были сначала белые, с пряничными глупыми фигурками, потом – алые, в полоску.
Из прихожей приносился мною мешок с «нарядами» - это были старые материны и тети Веры платья, рубашки, юбки – для выхода, для праздников. Я помню одну серебряную кофту на кнопках: из нее лезли жесткие нити, напоминавшие елочный блестящий дождь.
Что-то бархатное, малиновое… Черное с отливом…
Прозрачные голубые «лунные камни» из старых сережек – со скользящим эхом красноватого блика внутри. Они круглились, оправленные в лепестки черного металла. Добывала я их из комода, в углу, где хранились на верхних полках все мамины старые «украшения»…
Это были клады – вернее, пути к таинственно ждущим где-то кладам, их знаки, их вехи.
Позже, когда я оказалась за чертой, и все это пропало из виду, у меня в комоде образовалось «свое отделение»: не целые вороха нарядов и пригоршни «украшений», а небольшое отделение слева – как ниша в колумбарии.
Там и стояли мои коробочки – пластмассовые и деревянные. В этих шкатулках лежали остатки сокровищ, уцелевшие после кораблекрушения, потерявшие свой голос, омертвевшие, как археологические находки в музее. Многие из них и впрямь были невозможны и непригодны уже для жизни – потому что жизнь куда-то ушла, утекла незаметно и сразу.
Но тогда, в комнате, что «никем не взята», она, эта жизнь пенилась, лепилась, лилась, играла.
Бывало, дело доходило до самых взаправдашних оперных арий. Я писала для «прекрасной Анечки» страстные объяснения в любви:
«К решетке чугунной прекрасного сада меня, как ребенка, судьба привела, О только Вас видеть – одна мне отрада… Отступит холодная, страшная мгла…» Мы много читали Дюма и Вальтера Скотта и про благородных кавалеров знали не понаслышке. Иногда получались пародии на оперу, вроде «Дон Жуана» (музыка и слова мои):
Дон Жуан (я), вылетая из-за занавески с подушкой вместо гитары:
На небе полная луна
И мне беду она пророчит,
Ах, отучили ото сна
Твои сверкающие очи,
Ах, отучили ото сна
Твои сверкающие очи…
На небе полная луна,
И мне беду она пророчит…
Вскакивая на тахту, где за другой подушкой, долженствующей изображать балкон, стоит Анечка:
- Твой гибкий стан манит меня…
Анечка:
- Ужасный дон Жуан, оставь меня!
Не оскорбляй сердец желанием твоим!
Оставь меня, юнец!
Обручена с другим!!
Еще я рассказывала сказки.
Иногда бывал Новый год, и можно было сесть под елку, под ее глуховатые огни, мерцающие в своем затонном покое, и рассказывать. А чаще всего мы просто сидели за столом, а по нему в изобилии была разбросана радуга английских фломастеров и альбомов или страниц из папиных рабочих стопок бумаги…
- Давай порисуем…
И это был живой повод к рассказу – и рассказ тут же на глазах уплотнялся, ярчел, расцветал острым спиртом попахивающими красками, и голос мой тек.
И по мере того, как он вылеплял из воздуха историю, на бумаге разворачивалась череда иллюстрирующих его событий: как на иконе, где вокруг основной сцены сюжета растут миниатюрные ячеи жития. Анька замирала, спрашивала: «А что дальше? Что было с красавицей-Анечкой?» И снова брался за основу воздух, и фломастеры устраивали свои радуги – история, разумеется, продолжалась.