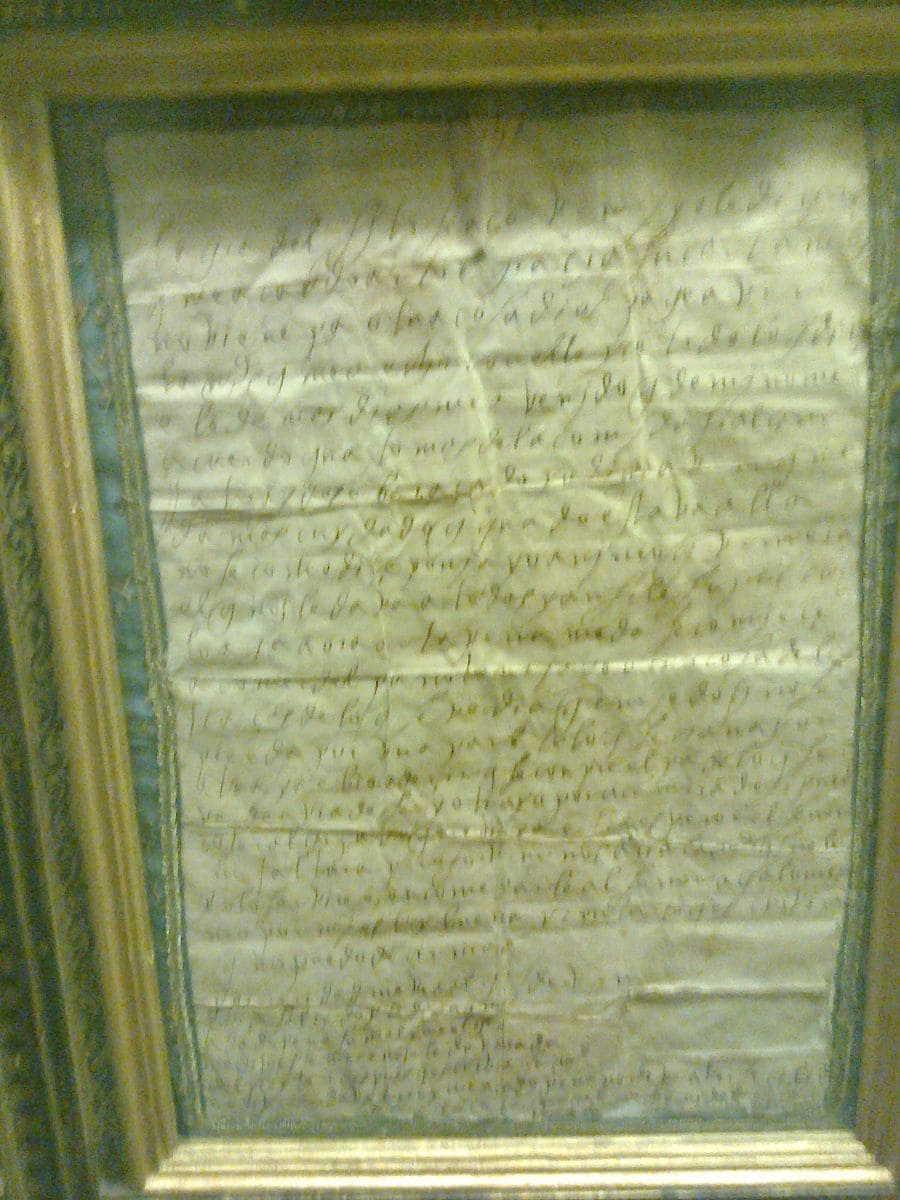На следующее утро – после часовни Божией Матери снегов – в Авиле начинается метель: ледяной, горный, сырой, крупный и медленный снег, он стекает с небес много часов, много лет, века. Он соединяет меня не только с юностью служительницы музея Дори, но и с жизнью Терезы Авильской, знавшей этот снег на ощупь, на вкус, на вздох. Как они ходили по этому снегу в своей жалкой обуви? Как от этого пронизывающего холода спасали их покрывала из черного сукна?
Огромные крепостные стены облизаны этими метелями. Черные растрепанные гнезда аистов шапками нахлобучены на крыши.
И ананасным светом пылают витрины кофеен и кондитерских, где грудами лежит белый авильский шоколад и пришвартованы крошечные лодки эклеров, плоты тончайших карамельных лепешек и могучие барки разнообразных хлебов.
Я иду в монастырь Воплощения Христова. Он – вдали от крепостной стены, стоит себе под метелью, тяжелый и плотный, как туча. Гордиться ему нечем: Тереза мучилась в его стенах двадцать лет, пока не вырвалась на свободу. О спеси и лицемерии его насельниц она отзывалась без малейшего почтения. Здесь по приказу инквизиции сожгли ее скромную крамольную библиотеку, здесь все кишело слухами и сплетнями о ней.
Но сейчас монастырь Воплощения – одно из самых важных мест для паломника. По крайней мере, так написано в мокрых брошюрах, которые я держу в руках. Я взяла их вместе с картами в туристическом центре: атласная бумага не выдерживает снега и превращается в разноцветный кисель.
В монастырской церкви меня встречает девушка в пушистой шерстяной шапке. Ее работа – водить посетителей по церкви и потчевать рассказами про главный экстаз Терезы, который случился здесь, перед этим самым алтарем. В ответ я рассказываю ей, как здесь, в этом монастыре, сожгли все Терезины книги. Для девушки это новость. Она тихо корпит над своим лоскутком перешитой истории, искромсанной сверху донизу ножницами суеверных домыслов, и ничего знать не хочет. Любопытно, что бы она мне сказала, если бы я порадовала ее рассказом о том, как Тереза мечтала вырваться отсюда или о том, что эта дочь благородных идальго на самом деле была из семьи еврейских купцов, которых поначалу нещадно преследовала инквизиция? Как Тереза всю жизнь мучилась изгойством, пока не нашла утешения в том, что было ей дороже всего – в новом опыте причастности своей любви?
Девушка показывает мне еще одну комнатушку за решеткой – это восстановленная келья Терезы. Ничего, кроме распятия и низкого стола с чернильницей и перьями. Стопка обветшалых белых книг на краю. И снова – ледяной пол выпирает огромными булыжниками: это на них надо было сидеть во время работы – поджавши ноги под себя и склонившись.
Разноцветный кисель лубочных историй в девушкиной голове начинает меня утомлять: но, слава богу, появляются другие посетители, и она незаметно исчезает. Я не могу вспомнить, как ее зовут – может, Кармен или Мария?
Под снегом я слушаю радио – внутри помех внезапно образуются выпуклые слова, потом в щели пространства пролезают объемные бегущие и летящие звуки. Восьмая Бетховена.
В китайской закусочной на площади поставили громоздкий обогреватель, там тихо, и по залу ходит теплый ветер.
Я уезжаю из Авилы рано поутру. В глазах памяти – одно из писем Терезы, выцветшая вязь слов, как сеть: можно разобрать только одно слово – «прийти».